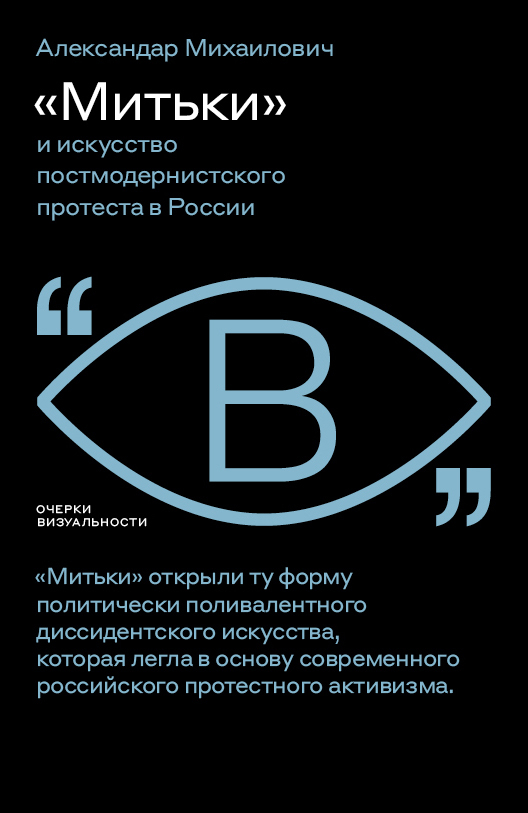эти художники. Что такое вообще господствующая повестка дня, которая, налагая на людей определенные ограничения, тем самым подталкивает их к созданию собственных контрпримеров? Проблема эта сложнее и многослойнее, чем может показаться. Вопросы, поставленные перед нами мощной антиномической моделью, легшей в основу молодежных движений, которые по-разному реагировали на драматические изменения геополитических событий, такие как Суэцкий кризис (1956–1957), окончание холодной войны, распад Советского Союза, акции протеста на площадях Тяньаньмэнь и Тахрир, в равной мере касаются как самоопределения, так и артикулированного отторжения укоренившейся политической нормативности. Одно дело сказать, что именно нам не нравится, чего мы не приемлем в окружающей социальной среде; и совсем другое — сформулировать самоидентификацию, несводимую к простой реакции. Политическая идентичность рождается в тот момент, когда мы восстаем против конкретного порядка вещей, — или по крайней мере тогда, когда оказываемся вынуждены отвергнуть ту или иную нормативную модальность. Представляется, что спусковым крючком для образования «Митьков» послужила катастрофическая советская кампания в Афганистане. Описывая год накануне как советского вторжения в Афганистан, так и возникновения арт-группы, Шагин восклицает: «О, как все было хорошо!» (стихотворение «1983 год»). Первым «митьковским» автопортретом явилась линогравюра Василия Голубева «Митьки отправляют Брежнева в Афганистан» (1987; илл. 5). Как отмечалось ранее, изображение это проникнуто страстной мечтой об отмене конкретного политического режима. Не следует забывать, что политические события несомненно способствовали формированию группы, пусть и не определили ее всецело.
Итак, общая генеалогия «Митьков» как художественной группы действительно связана с протестом. Но значит ли это, что их творческое наследие, по-своему развиваемое разными участниками коллектива, может послужить моделью протестной деятельности? Мы узнаем протестные движения по их заявлениям, которые неизбежно оказываются своего рода двусторонним зеркалом: одна сторона отражает окружающий мир с его проблемами, а другая — перформативную реакцию протестующих. Хотя изображения играют важнейшую роль в распространении протеста, главным инструментом его трансляции в мир, как показывают такие «вирусные» лозунги, как, например, «Black Lives Matter» и «Occupy Wall Street», нередко выступает язык. В 2006 году, давая интервью автору этих строк, Виктор Тихомиров, подобно многим другим участникам группы, подчеркнул важность различения митьков-художников и митьков-литераторов. И здесь мы вновь сталкиваемся с дихотомией изображения и слова — или, во всяком случае, с преобладанием первого над последним — в формировании контркультуры.
Молодые художники, о которых говорят, что они «примкнули» к «Митькам» позднее (главным образом на основании их участия в тех же выставках), в целом поддерживают правильность указанного разграничения. Отвечая на вопрос о наследии и коллективной идентичности «Митьков», художница и гравер Ирина Васильева, принадлежащая к более молодому поколению, чем большинство членов группы, рассказывает о технических и стилистических контрастах, никак не связанных с политикой. «Дмитрий Шагин — замечательный пейзажист», — говорит она и поясняет, что особый интерес его работам придает то обстоятельство, что город увиден в них глазами импрессиониста-«деревенщика» [366]. Раздумывая над этой проницательной оценкой, мы спрашиваем себя: что может такой лозунг, как «митьки никого не хотят победить!», рассказать нам о создании виртуозного визуального образа и о нашем от него впечатлении? И как связан «митьковский» «бренд» (в настоящее время используемый прежде всего Шагиным и ветераном ленинградской рок-сцены 1980-х годов Владимиром Рекшаном в добродушно-ностальгических, полушутливых выступлениях их общего ансамбля «Рекшагин») с одиноким, в сущности, опытом созерцания изображения, который, по мнению тех арт-критиков, которые выступают против приписывания понятию «движение» ключевой роли (в частности, Джед Перл из Нью-Йорка и Любовь Гуревич из Санкт-Петербурга), является условием sine qua non всякого понимания? Давая предварительный ответ на второй вопрос, можно сказать: не так уж тесно. Поскольку чтение тоже является формой зрительного восприятия, можно распространить это утверждение и на литературные тексты, отсылая к язвительному замечанию Владимира Набокова, который не мог «представить себе ни одного шедевра, понимание которого углубилось в какой-то мере или отношении от знания того, что он принадлежит к той или иной школе; и напротив, <…> целый ряд третьестепенных произведений, искусственно сохраняющих жизнеспособность <…> по той причине, что они приписаны <…> к одному из „направлений“ в прошлом» [367].
В недавно опубликованных мемуарах Рекшана о Ленинграде 1970–1980-х годов подчеркивается гибкий, импровизационный характер местной музыкальной и художественной андеграундной сцены, особенно по сравнению с аналогичной московской культурной средой. Тот факт, что ленинградские молодежные движения были более свободными и меньше полагались на манифесты, Рекшан связывает с кафе «Сайгон» на Невском проспекте, которое играло важную роль в жизни неофициальной культуры. «Сайгон», пишет ленинградский историк Юлия Валиева, служил местом встречи представителей самых разных групп, поэтому дух бурного диалога был там, можно сказать, возведен в принцип [368]. Участники узких кружков и широких «неформальных» сообществ тесно контактировали друг с другом и свободно вступали в общие беседы, так что границы между различными контркультурными группами оказывались проницаемыми. Отдельные яркие музыканты и художники, например Сергей Курехин, пианист-экспериментатор, некогда участник ленинградской рок-группы «Аквариум», тяготели скорее к спонтанно возникающим союзам и объединениям, нежели к оппозиционным движениям. Некоторые группы, такие как Товарищество экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ) и Новая академия изящных искусств Тимура Новикова, специально придумывали себе громоздкие «бюрократические» названия, пародируя советскую практику и желая замаскировать истинный, свободный и неортодоксальный, характер своей творческой деятельности. Это был вопрос скорее стилистики и эстетического разнообразия, нежели каких-либо революционных устремлений. Учитывая, что «богема — понятие условное», отмечает Рекшан, нет ничего удивительного в том, что значительная часть неофициального ленинградского творчества (музыкального и изобразительного) в конечном итоге попала на «огромное кладбище нереализованных ожиданий» [369]. С этой точки зрения «митьковский» статус молодежного движения оказывается весьма зыбким, что может пошатнуть наши представления о «Митьках» как о динамичной, не поддающейся строгому определению художественной группе. Восприятие их в качестве молодежного движения основывается главным образом на сочинениях Шинкарева, чьи описания, впрочем, носят слишком шутливый характер. В одном особо полемическом пассаже из книги «Конец митьков» (2010) Шинкарев даже связывает само образование группы с идеей разношерстного объединения художников-нонконформистов; при этом название группы превращается в акроним, означающий «Молодежная Инициатива: Творчество, Культура, Искусство» [370]. Конечно, подобных концептуальных плодов недостаточно для того, чтобы обеспечить творческому наследию молодежного движения прочное место и действенность в будущем.
Это не означает, что «Митьки» стремятся завуалировать свои характерные черты, выдающие их происхождение из советского андеграунда, или открещиваются от каких бы то ни было выражений общественного протеста. В 2004 году Дмитрий Шагин совместно с несколькими другими участниками группы публично выступил против роста цен на еду. Пожалуй, «митьковский» миф о котельной как о пространстве динамичного многоголосия, описанный Шинкаревым с опорой на идеи Бахтина, ярче всего выражен в работе Шагина